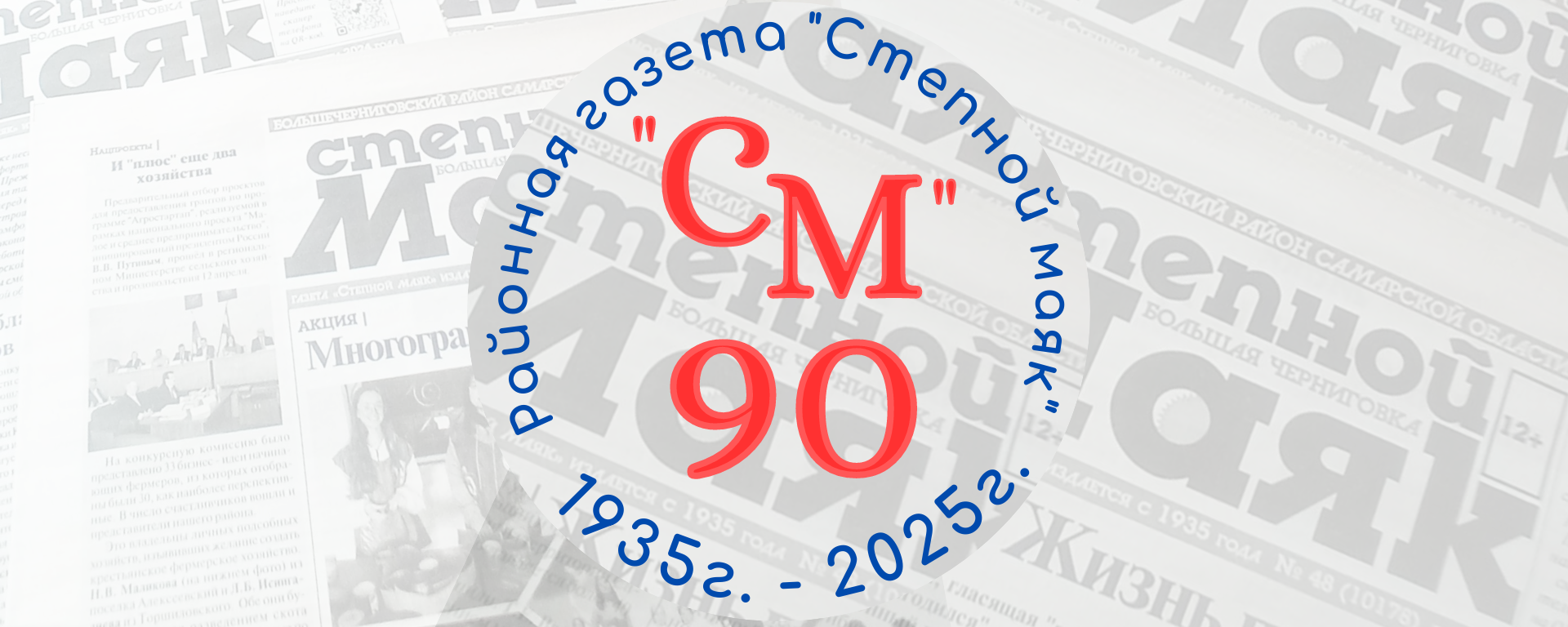Юный боец тыла
Их, родившихся в самом конце двадцатых и начала тридцатых годов прошлого века, принято в нашей стране называть «дети войны». У одного из них, жителя посёлка Кочкиновка Г.С. Хусаинова, совсем недавно довелось побывать в гостях.

Речь шла в основном о годах Великой Отечественной войны, на которую выпало детство таких, как мой собеседник. Слушая Гилажа Серажеевича, я всё больше убеждался в том, что моё мнение не лишено основания. Так вот, на мой взгляд, и десяти — четырнадцати — летних мальчишек того жестокого времени следует именовать юными бойцами тыла. Вот и замечательный советский поэт косвенно согласился с этим своей строчкой — «Мы тоже победили в той войне», адресованной им, юным бойцам, в том числе и тыла, которые воевали с голодом, недосыпанием, с валящей с ног, даже взрослых, хронической усталостью и даже со слезами. Верно подметил ещё один поэт: «Словно призраки, бледны, мы крепились — не кричали».
Годы и болезни смыли из памяти Г.С. Хусаинова отдельные эпизоды той, без выстрелов и взрывов, трудовой войны, участником которой стал и он — десятилетний кочкиновский мальчишка. Уже на следующий день после начала войны его отец — бригадир тракторной бригады, был мобилизован на фронт. Отправка на машинах из Августовки, до которой ранним утром пешком следовало прибыть к назначенному часу. Провожать отца отправились Гилаж и его старший четырнадцатилетний брат. Жена, обливаясь слезами, осталась дома с пятилетним сыном и трёхмесячной дочкой на руках. Нелегко было на сердце и у мужчины — понимал, не на веселую прогулку отправляется, изредка гладил вихрастые чубы сыновей, которые, в силу своего возраста, радовались яркому солнцу, зеленой траве, гонялись за кузнечиками. Они ещё были детьми, но уже завтра — юными бойцами тыла. А отец сгинул в горниле войне, погиб в бою в 1943 году, похоронен в братской могиле под Тулой. Довелось сыну навестить отца, в глубокой задумчивости стоял он перед обелиском, память услужливо восстанавливала те последние часы проводов родителя с ощущением теплой отцовской руки на голове, суровые годы недетского изматывающего труда, постоянное чувство голода. Но ни в минуту расставания, ни потом слёз у мальчишки не было, сейчас же, по щекам взрослого состоявшегося мужчины стекала скупая, мужская слеза…
Одиннадцатилетним мальчишкой Гилаж уже самостоятельно пас скот, ему даже доверили главную тягловую силу колхоза «1-ый Кочкиновский» — лошадей. Годом ранее, они с таким же по возрасту «малаем», под присмотром старика — аксакала гнали стадо коров из колхоза до Хлебной площади Куйбышева. А в 13 лет он уже слесарь, а потом и тракторист Большечерниговского МТС. Но перед этим всю зиму — из Кочкиновки — в Большую Черниговку, в любую погоду — в МТС на ремонт, в не по-росту латаной — перелатаной отцовской телогрейке, в едва живых вальнишках, с парой яиц для перекуса на обед, в лучшем случае — изредка, мучной лепёшкой. Гилаж Серажеевич сейчас меньше вспоминает о трудностях и пережитом тех лет, больше — о кажется навечно засевшем в голове чувстве голода. По большому счёту от голодной смерти многих тогда спасли суслики, которых, вовсе не ради красного словца, а с полными на то основанием, в пору тоже называть спасателями фронтового тыла.
Ну и, конечно, всякая растительность — корень, щавель, ягоды, но прежде всего — лебеда, из неё какую — никакую похлебку варили, женщины даже выпекали из неё нечто, похожее на лепёшки. Считалось, повезло тем, кто первыми узнавали о павшей корове или лошади. Отрубленный и принесённый домой от туши павшего животного кусок мяса, конечно же, не деликатес, но зато несколько дней, а то и недель семья могла хотя бы раз в сутки похлебать горячего «мясного» супа. А тем более семья, как у Хусаиновых, где кроме матери с четырьмя детьми, в глиняной мазанке, проживали ещё шестеро — дети родственников, ставших сиротами.
По словам Гилажа Серажеевича он наелся досыта лишь в 1951 году, когда был призван на службу в армию. Кстати, в беседе он подчеркивал, что так было во всех семьях, все, от мало до велика, растили и убирали хлеб, работали в животноводстве, но всё с таким трудом произведённое отправлялось на фронт, самовольно взять горсть зерна считалось преступлением с отбыванием наказания на тюремных нарах. Да, жестокое, выстраданное и трагическое время. Но всеобщее единение, стремление к победе, героический вклад бойцов на передовой и бойцов в тылу, миллионов, таких как Г.С. Хусаинов, позволили спасти Родину от порабощения.
И дальнейший жизненный путь Гилажа Серажеевича не был усыпан лепестками роз, но встречающиеся на нём трудности ни в какое сравнение не шли с теми недетскими годами труда и борьбы. Кстати, об армии. Служить ему довелось в автобатальоне в Краснодарском крае, возил на стройку материалы, грузили и разгружали которые пленные немцы, но общаться с ними не просто не хотелось, но и не разрешали командиры. И печально известную Кущевку он узнал первым в нашем районе, так как строительство велось как раз в этой самой станице, но бандитской она тогда, конечно, не была.
После демобилизации вновь — в родную МТС, но уже шофером, заочно закончил Кинель — Черкасский сельскохозяйственный техникум и львиную долю своего послевоенного трудового стажа посвятил колхозу «Степной маяк», будучи более тридцати лет механиком автогаража. Ушёл, на более чем заслуженный отдых, в возрасте 73 лет, имея общий стаж свыше 60 лет.

И в семейной жизни он тоже боец — победитель, в 1957 году завладел сердцем красавицы Минзифы, которая подарила ему трёх сыновей и четырёх дочерей. И теперь у счастливых Минзифы Абдуловны и Гилажа Серажеевича Хусаиновых восемь внуков и девять правнуков.
С наступающим юбилеем Победы вас, наши уважаемые ветераны!
Николай Акимшев